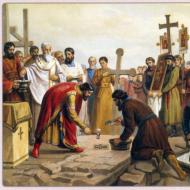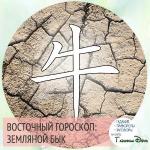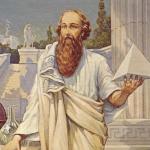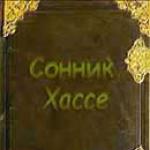История христианства. Предпосылки возникновения христианства Какие события создали условия для возникновения христианства
Исторические условия становления христианства . История христианской религии насчитывает уже более двух тысяч лет, само христианство насчитывает наибольшее число сторонников в мире и является ныне едва ли не наиболее распространенной мировой религией, доминирующей в Европе и Америке, имеющей весомые позиции в Африке и Океании (включая Австралию и Новую Зеландию), а также в ряде регионов Азии.
Однако человечество перед тем, как отдать предпочтение этой мировой религии, проделало большой исторический путь, на протяжении которого формировались и шлифовались религиозные представления и верования.
История религиозных представлений и верований, со времени их возникновения в условиях первобытнообщинного строя, его разложения и перехода в рабовладельческое общество, свидетельствует, что ранние религиозные представления имели тенденцию к убыванию фантастичности мифологических образов и все более приобретали человеческую, антропоморфную форму. Большой конкретности и достаточной степени выразительности антропоморфизм божеств достигает на политеистической стадии развития религиозно-мифологических представлений, классические образы которых дает мифология древних греков и римлян.
Высший этап развития религиозных представлений и верований в обществе тех далеких времен наступает, когда из многочисленного пантеона божеств на передний план выдвигается один. При этом часть существенных свойств и качеств различных богов переносится на одно, главное божество. Постепенно культ и поклонение одному богу вытесняет верования в других богов.
Эта тенденция или этап в развитии религиозных верований и представлений называется монотеизмом. Возникновение монотеистических представлений среди верующих было одной из предпосылок появления христианства. Однако данного явления в жизни человечества недостаточно, чтобы уяснить, хотя бы в общих чертах, сущность и особенности христианства как мировой религии.
Христианство возникло в первом веке в восточной части Римской империи. В этот период Римская империя являлась классическим рабовладельческим государством, включающим десятки стран Средиземноморья. Однако к первому веку мощь мирового государства была подорвана, и оно находилось в стадии упадка и распада. На его территории установились достаточно сложные религиозные отношения между носителями разных верований.
Это было вызвано рядом факторов: во-первых, шел процесс разложения национальных религий, начавшийся еще в эллинистическую и завершившийся в римскую эпоху; во-вторых, происходил процесс стихийного взаимодействия различных национальных и племенных верований и обычаев - синкретизм. Религиозный синкретизм сводился тогда прежде всего к проникновению ближневосточных представлений и образов, имеющих тысячелетнюю историю, в сознание и религиозную жизнь античного общества.
На основе взаимопроникновения и слияния различных сторон вероучений и культов происходило образование религиозных общин, которые по своей сути не сводились ни к одной из национальных религий в чистом виде, что ставило эти общины в той или иной форме в оппозицию к официальной религии. Но наибольшее влияние на становление и развитие христианства оказала иудейская религиозная традиция с четко выраженным монотеизмом.
Христианство возникло на перекрестке эпох, культур, смогло объединить достижения духовно-практической деятельности человечества и приспособить их для нужд новой цивилизации, оставив за порогом дряхлые одежды родоплеменных и национальных религиозных представлений и верований. Сила христианства проявилась в том, что оно смогло дистанцироваться от узких рамок территориальной обособленности этносов.
Социокультурные предпосылки возникновения христианства.
К середине I века настало время, когда уверенность римлян в том, что их мир наилучший из возможных миров, осталась в прошлом, на смену этой уверенности пришло ощущение неминуемой катастрофы, крушения вековых устоев, близкого конца света. В социальных низах возрастает недовольство властвующими, которое периодически принимает форму бунтов, восстаний. Эти бунты, восстания жестоко подавляются. Настроения недовольства не исчезают, но ищут иные формы своего удовлетворения.
Христианство в Римской империи первоначально воспринималась большинством людей как ясная и понятная форма социального протеста. Оно пробуждало веру в заступника, способного обуздать власть имущих, утвердить идею всеобщего равенства, спасения всех людей, независимо от их этнической, политической и социальной принадлежности. Первые христиане верили в близкий конец существующего миропорядка и установление «Царства Небесного», благодаря прямому вмешательству Бога, в котором будет восстановлена справедливость, восторжествует праведность над неправедностью, бедные над богатыми.
Обличение испорченности мира, его греховности, обещание спасения и установление царства мира и справедливости - таковы социальные идеи, которые привлекли на сторону христианства сотни тысяч, а позднее и миллионы последователей. Они давали надежду на утешение всех страждущих. Именно этим людям, как следует из Нагорной проповеди Иисуса и Откровения Иоанна Богослова, прежде всего было обещано Царство Божие. Те, которые здесь первые, там станут последними, а последние здесь - там будут первыми. Зло будет наказано, а добродетель вознаграждена. Страшный суд свершится и всем воздастся по их делам.
Значительная роль в объяснении процесса социокультурного и естественного механизма возникновения христианства принадлежит Ф. Энгельсу, посвятившему этой проблеме ряд произведений: «Бруно Бауэр и первоначальное христианство», «Книга откровения», «К истории первоначального христианства». Общий вывод этих работ сводится к идее, что к моменту возникновения первой христианской общины в Палестине, общественное сознание народов Римской империи было подготовлено к восприятию этого вероучения. Ф. Энгельс зафиксировал как социальные, так и культурные предпосылки восприятия христианства. По его словам «Христианству предшествовал полный крах мировых порядков. Христианство было выражением этого краха».
Среди причин, побудивших большинство населения Римской империи принять христианство, можно назвать следующие:
1) постепенное разложение и упадок греко-римской культуры;
2) принятие христианской веры Константином и его преемниками;
3) тот факт, что в христианстве люди всех классов и национальностей принимались в единое, общее братство и что эта религия могла быть адаптирована к местным народным обычаям;
4) бескомпромиссная приверженность церкви своим убеждениям и высокие моральные качества ее членов;
5) героизм христианских мучеников. Организация церкви. Христиане верили, что составляют единую вселенскую церковь. Она была организована по принципу «диоцезов» (термин, обозначавший территориальную единицу в составе империи), или «епархий» во главе с епископом.
Общественно-исторические условия возникновения христианства.
Христианство возникло в I веке нашей эры, выделившись среди мистико- мессианских движений в восточной части Римской империи. Оно быстро обособилось от иудаизма, превратившись в самостоятельную религию со своим специфическим вероучением, своей богослужебной практикой и церковной организацией.
Христианство появилось в период острого социально-экономического кризиса рабовладельческой Римской империи. Этот кризис охватил как беднейшую часть общества, так и состоятельные слои населения. В страхе перед римскими императорами, которых она же и создала, рабовладельческая аристократия спешила забыться в беспробудном пьянстве, разврате и доносительстве.
Социально-экономический кризис рабовладельчества сопровождался разложением традиционных религиозных верований и широким распространением суеверий и мистики. Известный римский историк Тацит (ок. 55г. – ок. 120г.) впервые упомянувший о христианах, отмечал полный разброд в умах современного общества. "Среди величайших мыслителей древности их учеников и последователей можно обнаружить приверженцев противоположных взглядов, и многие твердо держаться того мнения, что богам нет ни малейшего дела, ни до нашего конца, ни вообще до смертных: вот почему так часто жизнь хороших людей так безрадостна, а счастье выпадает в удел дурным".
Ясно, что при таком умонастроении теряло всякий смысл обращаться к традиционным богам в решении жизненных задач. Нужны были более действенные ценности.
Падение авторитета античных богов сопровождалось распространением фантастических слухов, мистики, суеверий, шарлатанства, веры в колдовство и магию. Общественность изнемогала под бременем безверья и всеобщего одичания и страстно надеялась на спасение от беззакония и беспутства.
Римская религия, как и различные учения Востока, не могла дать утешения обездоленным и в силу своего национального характера не позволяла утверждать идею всеобщей справедливости, равенства и спасения.
Христианство же, прежде всего, провозгласило равенство всех людей как грешников. Оно отвергло существующие рабовладельческие общественные порядки и тем самым породило надежду на избавление от гнета и порабощения отчаявшихся людей. Оно призвало к переустройству мира, выразив тем самым реальные интересы бесправных и порабощенных. Оно, наконец, дало рабу утешение, надежду получения свободы простым и понятным способом – через познание божественной истины, которую принес на землю Христос, чтобы навсегда искупить все человеческие грехи и пороки.
Христианская апологетика утверждает, что в отличие от всех остальных религий мира христианство не создано людьми, а дано человечеству Богом в готовом и законченном виде. Однако сравнительная история религиозных учений свидетельствует о том, что христианство усвоило и переосмыслило предшествующие идейные концепции иудаизма, митраизма, древних восточных религий, философские воззрения. Все это обогащало и цементировало новую религию, превращало ее в мощную культурно-интеллектуальную силу, способную противопоставить себя всем национально-этническим культам и превратиться в массовое наднациональное движение. Усвоение первоначальным христианством предшествующего религиозно-культурного наследия отнюдь не превращало его в конгломерат разрозненных представление, а способствовало принципиально новому учению получить всеобщее признание.
Причины широкого распространения христианства.
Христианство явилось качественно новой религией, способной влиять на огромные массы людей. Она обращалась к ним, неся новые ценности, новые убеждения и надежды. Все это получало глубокий отклик в сердцах обездоленных и растерянных людей. Пробуждалась вера в заступника, способного обуздать земную власть, формировалось фанатичное желание пострадать за Избавителя от неволи, умножалось доверие к Богу, который во имя любви к людям пожертвовал своим Сыном, чтобы искупить грехи смертных.
Апостолы Христианства, обращаясь ко всем людям и народам, создавали вероисповедную связь людей, независимо от их этнической, языковой, политической и социальной принадлежности – связь единоверцев.
Христианство положило начало совершенно новой культуре – культуре, признававшей в человеке личность, смотревшей на человека как на земное воплощение Бога и на Бога как наивысшую любовь к людям, как на небесное воплощение человека, Иисуса Христа.
Новая религия запретила жертвоприношения и отказалась от жесткой регламентации поведения человека в быту. Вместе с тем, христианская церковь не отказалась от наиболее распространенных, привычных обрядов, обосновала, правомерность их заимствования, что облегчало переход в христианскую веру.
"Христиане меньше, чем кто бы то ни было не должны отвергать что-либо хорошее только потому, что оно принадлежит тому или другому.… Продолжить хорошие обычаи, практиковавшиеся у идолопоклонников, - значит отобрать у них то, что им не принадлежит, и вернуть истинному владельцу, Богу", – писал Августин Блаженный.
Христианство совершило великий исторический синтез, наследуя и по- своему преобразуя интеллектуальные завоевания предшествующих эпох, при этом освоение существовавшей ранее философии и религиозный мысли шло в русле духовно-нравственных исканий эпохи, что придавало христианству особую привлекательность.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХРИСТИАНСТВО
Христианство, провозглашенные им вероучения, идеи и этические принципы выросли на почве определенных общественных отношений.
В первые века нашей эры римляне окончили завоевание Средиземноморья. Подчинив себе множество народов и государств, Рим уничтожил их политическую самостоятельность и государственность, самобытность их общественной жизни. Безудержная алчность и жестокость римских наместников, тиски тяжелых государственных налогов, римское судопроизводство, вытиснившее местные правопорядки, - весь гнет государственной машины империи порождал в среде завоеванных народов чувство ненависти к завоевателю и вместе с тем чувство бессилия перед ним. Эти настроения хорошо переданы в одном из раннехристианских произведений - «Апокалипсисе» (Откровение Иоанна), написанном в I веке нашей эры. Автор этого произведения называет рабовладельческий Рим «великой блудницей», развратившей целые народы и страны и разрушившей их жизненные устои. В неистовых пророчествах он предсказывает скорую и позорную гибель «вечного» Рима. «Время близко!» - восклицает он, но надежды свои возлагает на небесные силы.
Другим большим вопросом общественной жизни являлась проблема рабства. Дело было не только в том, что рабский труд обрекал общество на экономический застой, - Римское государство страшилось своих рабов. «Сколько рабов - столько врагов», - утверждала пословица того времени.
Меры устрашения рабов не могли решить проблемы, и в верхних слоях общества робко начинает пробивать себе дорогу идея некоторого смягчения форм рабовладения. Римский философ Сенека (I век нашей эры), богач и царедворец, советовал господам более мягко обращаться со своими подневольными. «Все люди, - говорил он, - одинаковы по существу, все одинаковы по рождению; знатнее тот, кто честен по природе. У всех нас общий родитель - мир. Природа велит нам приносить пользу всем людям - все равно, рабы они или свободные, свободнорожденные или отпущенники». В то же время рабам и тем, кто находится в зависимости, Сенека рекомендует проявлять терпение и спокойно сносить обиды, поскольку сопротивление только ухудшило бы их положение. Эти идеи, по-своему переработанные, выдвинуло и христианство.
Римское общество переживало нравственный и религиозный кризис. Высшие круги общества с презрением относились к людям труда, не только рабам, но и свободным. Сукновалы, шерстобиты, сапожники, медники - постоянный объект пренебрежения и осмеяния. Греческий писатель Лукиан так изображает удел ремесленника: «Ты будешь недалек умом, будешь держаться простовато, друзья не будут искать твоего общества, враги не будут бояться тебя... ты станешь жить как заяц, которого все травят, и станешь добычей сильного».
В то же время среди людей труда, не только рабов, но и свободных, складывались свои меры ценностей человека. Из надгробных надписей, басен, поговорок того времени мы узнаем, что такой мерой оказывалось трудолюбие, мастерство, бескорыстие. В одной надписи некая жрица с гордостью говорит, что ее родители вольноотпущенные, которые были бедны, но свободны духом. В другой - об умершем - говорится, что его простодушие, «немудрствование» и доброта открыли его душе возможность местожительствовать с богами. Вольноотпущенник Федр в басне о судебной тяжбе между пчелами и трутнями из-за меда в улье дает понять, что он на стороне тех, кто добыл этот мед своим трудом.
Поговорки и поучения трудовых людей содержат нередко противоположные призывы: призирай господство и не води знакомства с властью, отвечай обидчику тем же, ибо, прощая, ты вдохновляешь господ на новые обиды. В одной поговорке резко осуждается идея сопротивления: «Кроткие живут в безопасности, но зато они рабы». И наряду с этим: «Лекарство против обид - прощение». Здесь сопротивление злу - способ социальной самозащиты.
Многие из этих представлений были восприняты формировавшимся христианством.
Характерной чертой времени было известное охлаждение греко-римского общества к своим старым богам. Многие сомневались в самом их существовании.
Известный римский политический деятель и оратор Цицерон (106 - 43 гг. до нашей эры) в тракте «О природе богов» изобразил трех философов, ведущих спор о том, что «следует думать о религии, благочестии, обрядах, жертвоприношениях» и о самих бессмертных богах». Один из спорящих хотя и признает существование блаженных богов, однако, помещая их где-то в неведомых «междумириях», отрицает их вмешательство в дела людей и, следовательно, реальное значение религии. Другой, наоборот, утверждает, что строение Вселенной исполнено божественного разума, и боги все устроили для блага человека. Третий философ - его точку зрения разделяет сам Цицерон - говорит, что в народе надо поддерживать веру в богов, но для образованных людей вопрос темен. «Много ведь попадается такого и смущает так, что иногда кажется, что совершенно нет таких богов». Этот религиозный скептицизм уживался с самыми темными суевериями. Множество богов, демонов, духов опутывали мышление человека, держа его в страхе и подрывая, по выражению римского поэта Лукреция, «самые устои жизни».
Наряду со скептическим отношением к собственным богам в римском обществе распространяется интерес к восточным культам. В эту наполненную политическими и социальными потрясениями беспокойную эпоху они привлекали своей экзальтацией, исступленными обрядами, таинствами посвящения, создающими иллюзию общения с божеством. Некоторые из них содержали идеи потустороннего воздаяния и возмездия, отражая этим жажду социальной справедливости на Земле.
Таким образом, социальная и политическая неустойчивость эпохи, чувство безысходности толкали массы к религиозным поискам. Наступление тяжелых времен приписывалось злой воле или слабости старых богов. А с захирением демократических учреждений Рима и упадком общественной жизни духовная энергия людей все больше обращалась к сфере религии. «Во всех классах, - пишет Энгельс, - должно было быть известное количество людей, которые, отчаявшись в материальном освобождении, искали взамен него освобождения духовного, утешения в сознании, которое спасло бы их от полного отчаяния». Предзнаменования, гадания, оракулы, составление гороскопов, ворожба и заклинания, поиски магических формул заняли огромное место во всех слоях общества. И в этом кипящем котле духовной жизни империи исподволь подготавливалась и новая религия - христианство.
Из небольших разрозненных сект оно к началу IV в. превратилось в мощное идейное течение, завоевав господствующее положение сначала в Риме, а затем на Ближнем Востоке, в Северной Африке и во всей Европе. В настоящее время это наиболее распространенная религия, Оказывающая большое влияние на духовную, oбщecтвенную и политическую жизнь. Чем не было обусловлено возникновение христианства, в силу каких причин оно превратилось в официальную религию рабовладельческого, феодального и капиталистического обществ, как объяснить его относительно быстрое распространение и непрерывно возраставшее на протяжении многих веков влияние?
Общественно-исторические причины возникновения христианства.
Чтобы правильно понять причины возникновения христианства, необходимо прежде всего с диалектико-материалистических позиций оценить те общественно-исторические предпосылки, которые лежали в основе этого религиозного движения, выяснить условия жизни, интересы и духовные запросы основных классов и социальных групп «мировой империи», рассмотреть социально-политическую и идеологическую обстановку, вызвавшую появление новых религиозных потребностей.
Римская империя, в недрах которой возникло христианство, являлась классическим рабовладельческим государством, включавшим все страны Средиземноморского бассейна. Положение миллионов рабов, по преимуществу выходцев с Востока, было невыносимым. Их попытки изменить свое положение не имели успеха. Восстание рабов, в том числе и наиболее грандиозное из чих — под руководством Спартака , терпели жестокие поражения. Рабы ненавидели своих угнетателей, но эта ненависть была бессильна.
В завоеванных странах гнет Рима был также очень тяжелым. Взрослое мужское население покоренных народов истреблялось или уводилось в рабство. Остальные не считались гражданами империи, а объявлялись подданными. Они облагались налогами и в пользу государства, и в пользу наместников. Все это разрушало уже подорванную войнами экономику провинций.
Завоеватели уничтожали в покоренных странах общественные порядки и политические устои. Местные традиции, обычаи, законы безжалостно попирались.
Полное бесправие и утрата надежд на избавление от рабства порождали всеобщую апатию, деморализацию. Императорская власть представлялась рабам и покоренным народам неотвратимой необходимостью. Каждое поражение в борьбе с могущественным Римом подрывало их надежду на изменение условий своей жизни. Свободное население Римской империи делилось на различные социальные группы. Относительно немногочисленная по составу группа крупных землевладельцев, ростовщиков, родовой знати владела несметными Богатствами. А огромные массы неимущей бедноты, заполнявшей города, были лишены самых необходимых условий существования. С превращением Римской республики в империю плебс все более и более отстранялся от участия в государственной деятельности, в выборе должностных лиц и утверждении законов. По отношению к императорской власти свободная беднота была так же бесправна, как рабы по отношению к своим господам.
Восстания рабов и покоренных народов, всеобщее недовольство свободной бедноты, неуверенность в завтрашнем дне господствующей верхушки — все это свидетельствовало об обострившихся общественных противоречиях рабовладельческого строя. Несмотря на кажущееся благополучие, Римская империя исчерпала возможности своего дальнейшего развития. Назревала необходимость замены изживших себя рабовладельческих отношений. Крах античных мировых порядков стал неизбежным.
Старые племенные и национальные религии покоренных народов Востока в эпоху римских завоеваний пришли в упадок. Разрушив сложившиеся в этих странах общественные отношения, Рим обрек на гибель и религиозные верования. Римская национальная религия, ненавидимая как рабами, так и подданными, перестала соответствовать общественным потребностям. Возникнув на заре рабовладельческого строя, она, естественно, не могла дать утешения миллионам обездоленных людей, не могла стать религией мировой империи.
Разложение рабовладельческих отношений сопровождалось экономическим, политическим и духовным упадком. Отчаявшиеся рабы, подданные, беднота, потеряв надежду на освобождение, искали духовного утешения в небесном спасении. Такое утешение они нашли в христианстве с его учением о загробном воздаянии, потустороннем мире, пренебрежении к земной жизни и обещаниями обездоленным вечного счастья на небе. Первоначальное христианство представляло собой оппозицию рабовладельческому строю. Его последователи мечтали об изменении социальных условий жизни бесправных людей, об утверждении равенства и справедливости. Однако эти иллюзорные чаяния должны были быть реализованы божественной волей, пришедшим на землю спасителем.
Новая религия возникла прежде всего среди народов восточных провинций Римской империи, где гнет был особенно сильным, а ненависть к угнетателям и отчаяние достигли предела. Христианство распространялось по всему востоку империи и очень скоро проникло в Рим. Как и все религии, христианство было создано людьми, ощутившими потребность в новом вероучении и осознавшими эту потребность. Источники ее возникновения коренились в социально-экономических условиях рабовладельческого строя периода его упадка и разложения. «...Христианству предшествовал полный крах античных «мировых порядков»... христианство было простым выражением этого краха...»!
Идейные предпосылки христианства.
Богословы характеризуют христианство как самобытное учение, свободное от предшествующих влияний. Что же касается сходства христианского вероучения с известными религиозными системами Востока и философскими концепциями античного мира , то оно объявляется внешним, случайным.
Научный анализ христианского вероучения и культа опровергает эти утверждения. Христианство возникло не на голом месте; как и все последующие религии, оно не свободно от влияния предыдущих. Оно заимствовало не только религиозные, но и философские представления многих народов Востока.
К идейным источникам христианства можно отнести, во-первых, мифологию различных восточных религий и, во-вторых, вульгаризированные философские представления античного мира.
Из восточных религиозных систем наибольшее влияние на христианство оказал иудаизм — древняя монотеистическая религия евреев. Христианство зародилось в еврейской среде. В наиболее ранней книге Нового завета — «Откровении Иоанна Богослова » — воспроизводится одна из центральных идей иудаизма об умилостивлении Бога жертвоприношением. Христос сравнивается с Моисеем, а различные видения и предсказания являются почти дословным пересказом книг пророков Даниила, Еноха и др.
Христианство заимствовало из иудаизма собрание священных книг, вошедших в состав Ветхого завета. Оно сохранило в неизменном виде ветхозаветные представления о сотворении богом Вселенной, растительного и животного мира, человека и т. д. До настоящего времени Ветхий завет является священной книгой как для христиан, так и для последователей иудаизма.
О значительных заимствованиях христианством иудейских представлений свидетельствуют также найденные в 1947 г. на побережье Мертвого моря кумранские свитки . В них восхваляется бедность, рассказывается о «наставнике справедливости», преследуемом и казненном за веру, содержатся пророчества об ожидании божественного спасителя. Кумранские свитки, появление которых относится ко 11-1 вв. до н. э., принадлежали еврейской секте эссенов (ессеев), в известной мере отошедших от ортодоксального иудаизма и создавших собственный культ с надеждой на переустройство мира и человека с помощью божественного провидения. В христианском вероучении содержится так много общего с религиозными представлениями эссенов, что даже богословские ортодоксы вынуждены признать их предшественниками раннехристианских общин.
Не свободно христианство и от влияния других восточных религий, в частности египетского культа Озири-са с разными представлениями о загробной жизни, персидского Бога Митры с рождающимся, умирающим и воскресающим богом. Из восточных религий в христианство проникло немало элементов фетишизма , анимизма , магии. Все это является свидетельством влияния старых культов на новую религию. Христианство, выдвинув идею о посреднике, добровольно приносящем себя в жертву для искупления грехов человеческих, обращаясь ко веем народам, независимо от их этнической принадлежности, противопоставило себя всем национальным религиям и стало мировой религией.
Социальная сущность христианства.
Некоторые религиозные идеологи стремятся отождествить идеи коммунизма с социальными принципами раннего христианства. Они внушают верующим, что именно Иисус Христос впервые выступил с программой общественных преобразований на началах подлинной справедливости. Чтобы вскрыть несостоятельность подобных утверждений, следует рассмотреть социальные принципы христианства.
Вначале христианство выступило как религия угнетенных. Первые общины в основном состояли из рабов и вольноотпущенников, нищих и бесправных людей. Их объединяла ненависть к эксплуататорам. Они осуждали несправедливость, пророчили неизбежную гибель «великой блуднице» — Риму. На этом основании некоторые современные богословы и пытаются объявить христианство революционным движением, а Христа — его вождем.
Но эти утверждения несостоятельны. Если революция предполагает изменение экономических и политических основ общества, то христианство не указывало реальных путей преобразования действительности. Вместо борьбы за освобождение оно давало иллюзию освобождения. Эти принципы не только не выражали реальные интересы угнетенных масс, но и духовно разоружали их, парализовывали волю к действию. Объявляя раба свободным перед богом, а угнетателя — рабом своих страстей, христианство не освобождало, а сковывало новыми цепями отчаявшихся людей.
Ничего не имеет общего с коммунизмом и идея христианского равенства. Тщетно искать в священном писании утверждения, что люди должны быть равны в социальном и политическом отношении. Наоборот, здесь рекомендуется оставаться всякому в своем состоянии, работать на благо своего владельца (Лука, 19; 12-26), исполнять повеления (Лука, 17; 7-10). Единственное, что предлагает христианство, — это «отрицательное равенство перед богом всех людей как грешников...». Такое представление о равенстве не подрывало существующих классовых различий, увековечивало социальную структуру рабовладельческого общества.
В «Деяниях апостолов» высказывается мысль об общности имущества. Но если факты распродажи собственности и раздачи выручки беднякам имели место в истории раннего христианства, то они были эпизодическими. Осуждая Богатство и пресыщение, христианство никогда не предлагало отменить частную собственность, не отвергало право одних жить за счет других. Более того, оно всегда признавало частную собственность священной и неприкосновенной, рассматривая любое посягательство на нее как нарушение богом установленного порядка. Наличие в раннехристианских общинах демократических тенденций, определяемых самими верующими, не могло изменить социальной сущности новой религии. Вот почему Ф. Энгельс подчеркивал, что «если немногие места из библии и могут быть истолкованы в пользу коммунизма, то весь дух ее учения, однако, совершенно враждебен ему...».
Социальные принципы христианства, как и все его вероучение, противоположны коммунистическим принципам. «Социальные принципы христианства, — писал К. Маркс , — оправдывали античное рабство, превозносили средневековое крепостничество и умеют также, в случае нужды, защищать, хотя и с жалкими ужимками, угнетение пролетариата .
Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов — господствующего и угнетенного, и для последнего у них находится лишь благочестивое пожелание, дабы первый ему благодетельствовал.
Социальные принципы христианства переносят на небо обещанную консисторским советником компенсацию за все испытанные мерзости, оправдывая тем самым дальнейшее существование этих мерзостей на земле.
Социальные принципы христианства превозносят трусость, презрение к самому себе, самоунижение, смирение, покорность, словом — все качества черни.
На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества...»
Превращение христианства в государственную религию Римской империи.
К середине I в. в христианстве отчетливо проявились различные направления, каждое из которых вело ожесточенную борьбу как друг с другом, так и с другими идейными противниками. Автор «Откровения Иоанна Богослова» («Апокалипсиса») сообщает о враждующих сектах николаитов, последователей Валаама, ефесских лжеапостолов, сторонников Иезавели, филадельфийском «сатанинском сборище». Еще большее число сект упоминается в сочинениях христианского апологета Юстина-мученика .
Раннехристианские общины не знали догматики и культа позднейшего христианства. Им не были известны святая троица и боговоплощение. Христос считался лишь сыном Божьим. Не было и представления о Святом Духе. Общины не имели специальных мест для проведения богослужений, не избирали священнослужителей, не знали таинств, икон. Общей для всех была вера в добровольную искупительную жертву, принесенную раз и навсегда за грехи всех людей посредником между богом и человеком.
По мере роста христианского космополитизма и формирования основных догматических представлений усилился процесс отхода от иудаизма и окончательного разрыва с ним. В конце I — начале II в., особенно после поражения еврейских восстаний против Рима и обособления иудаизма, этот разрыв оформился окончательно.
Формирование христианской идеологии нашло отражение в новозаветном каноне. Эти книги, создававшиеся на протяжении более столетия, свидетельствуют об образовании догматических представлений и противопоставлении христианства другим религиям. В «Откровении Иоанна Богослова», написанном около 68 г., содержится лишь догмат искупления. В «Посланиях апостолов», относящихся к концу I в., образ Христа уже принимает большую конкретность, хотя еще не сообщаются факты о его земной жизни. Обращает на себя внимание стремление к примирению с существующими социальными условиями и императорской властью.
Бунтарское ожидание царства божьего на земле как символа скорого падения Рима, высказанное в «Откровении», заменено новой идеей — о достижении в отдаленном будущем «царства небесного». В более поздних Посланиях апостола Павла имеются упоминания об окончательном разрыве с иудаизмом и содержится обвинение евреев в убийстве Христа. И только в евангелиях, написанных в первой половине II в., а также в более поздних «Деяниях апостолов» сообщаются факты земной жизни Иисуса Христа, излагаются его проповеди, рассказывается о множестве совершенных им чудес. Здесь уже демократические идеи заменяются принципом непротивления, обещанием небесного благополучия, смирением и покорностью.
В евангелиях нет указаний на наличие в общинах оформившегося клира. Его появление относится к концу II в. и связано с постепенным изменением социального состава раннехристианских общин. В это время происходит дальнейшее обострение противоречий рабовладельческого общества. Упадок торговли, производства, брожение среди рабов и недовольство разоренных крестьян распространяются все больше. Теперь Рим озабочен не расширением своих границ, а защитой их от непрерывных нашествий варваров. Безвыходность положения порождает настроения отчаяния и пессимизма в среде господствующих классов, не способных остановить распад империи.
Такой ситуации как нельзя лучше соответствовали идеи христианства, звавшие верующих добровольно и покорно идти навстречу неизбежной гибели. Этим главным образом и объясняется изменение социального состава общин. Если ранее они объединяли рабов и свободную бедноту, то во II в. в их составе уже были ремесленники, торговцы, землевладельцы и даже римская знать. Состоятельная часть христиан постепенно приходит к управлению имуществом и руководству богослужебной практикой. Должностные лица, вначале избираемые на определенный срок, а затем пожизненно, образуют клир. Священники, дьяконы, епископы, митрополиты вытесняют харизматиков и сосредоточивают в своих руках власть.
Изменение социального состава общин определило и их направленность. Наблюдается все больший отход от прежних демократических тенденций и настойчивое стремление к союзу с императорской властью. Христианство постепенно встает на защиту рабовладельческого строя.
Императорская власть в свою очередь ощущала острую необходимость использовать новую религию в своих политических и идеологических целях. Попытки превратить в таковую одну из национальных религий, в частности римскую, успеха не имели. Религиозные реформы Гелиогабала, Аврелиана, Диоклетиана, попытки Юлиана Флавия реставрировать политеизм оказались безрезультатными. Нужна была новая религия, понятная всем народам империи независимо от их этнической или классовой принадлежности, способная дать утешение угнетенным и духовную узду угнетателям.
Былые гонения или безразличие римского государства к христианству сменились в начале IV в. активной поддержкой новой религии. Император Константин в 324 г . Миланским эдиктом (указом) объявил христианство разрешенной религией. Христианская церковь была освобождена от податей, ей стали возвращать ранее конфискованное имущество. В 325 г. под председательством Константина собрался в городе Никее I Вселенский собор - христианских церквей, сыгравший важную роль в утверждении христианского вероучения.
Внутрицерковная борьба да утверждение христианской догматики и культа.
Ни один догмат христианства не появлялся сразу в законченном виде. Проходили столетия, прежде чем тот или иной из них складывался окончательно. Даже после того, как основные догматы были канонизированы, борьба вокруг их содержания не прекращалась. Как до Никейского собора, так и после него между различными группами духовенства велись ожесточенные христологические споры. Борьба сконцентрировалась вокруг толкования трех основных догматов: триединства Бога, воплощения и искупления.
Никейский собор осудил учение александрийского пресвитера Ария, утверждавшего, что Бог-Сын не равен Богу-Отцу. Арианство наносило серьезный удар по важнейшему представлению о единстве Святой Троицы. Собор дал окончательное толкование этому догмату, в соответствии с которым бог определялся как единство трех лиц (ипостасей), где Сын не часть Бога, а сам Бог со всеми качествами Отца и Духа Святого.
На II Вселенском (Константинопольском) соборе (381 г.) были преданы проклятию не только ариане, но и другие еретики: евномиане, духоборцы, савеллиане, фотиниане, аполлинариане и др. Евномиане, например, отказались считать Христа Богом. Они признавали его лишь результатом творения Бога и тем самым разрушали представления о триединстве.
В начале V в. особенно ожесточенная борьба в христианстве разгорелась вокруг догмата боговоплощения. Некоторые представители духовенства, возглавляемые константинопольским патриархом Несторием, отвергали сложившиеся представления о рождении Христа от богородицы. Женщина, утверждали несториане, родила человека, а не Бога. И только по наитию святого духа в него вселилось божество, и он стал спасителем. Обоснованию и защите догмата боговоплощения было уделено главное внимание на III Вселенском (Эфесском) соборе (431 г.), утвердившем шесть специальных правил в защиту этого догмата.
На IV Вселенском (Халкидонском) соборе (451 г.) особое внимание было уделено обоснованию догматов искупления и боговоплощения. Возглавляемые константинопольским архимандритом Евтихием монофизиты отказывались признать в Христе наличие человеческих качеств, а стало быть, и возможность воплощения Бога в человека. Это подрывало веру в страдания Христа, в его смерть как искупительную жертву и воскресение. Вселенский собор решил, что Христос должен трактоваться и как совершенный бог, и как совершенный человек. Одновременно императором Маркианом были изданы законы, жестоко карающие всех, кто отказывается признать этот догмат.
В середине VI в. решился многовековой спор о том, как изображать Иисуса Христа. 82-е правило II Константинопольского Вселенского собора (553 г.) обязывало изображать сына божьего в человеческом облике, а не в виде агнца. При этом требовалось, чтобы в изображении Христа подчеркивались его смирение, покорность, страдания.
Бесчисленными раздорами сопровождалось утверждение христианского культа. В первых веках церковь категорически запрещала какое бы то ни было изображение божества. Церковный собор в Эльвире в начале IV в. установил правило, согласно которому на стенах не должно быть никаких предметов почитания и поклонения. В конце этого века один из «отцов церкви», Евсевий, считал употребление икон идолопоклонством. Против поклонения иконам вVII в. выступили несториане и монофизиты. Были изданы правительственные распоряжения, запрещавшие употребление икон.
Ожесточенный спор между христианскими церквами о почитании святых разрешился только на II Никейском Вселенском соборе (787 г.). Собор утвердил правила, в соответствии с которыми считалось необходимым изображение священных лиц и событий, а также поклонение им.
Еще более длительным был процесс формирования христианских таинств и связанных с ними обрядов. Автору «Откровения Иоанна Богослова» таинства не были известны. Только после разрыва с иудаизмом христианство приспособило к своему культу крещение, а позже евхаристию (причащение). Затем в течение ряда веков христианство постепенно вводило миропомазание, елеосвящение, священство, брак, покаяние и сопутствующую ему исповедь. Но борьба за всеобщее признание христианской догматики и культа не прекращалась, приобретая в отдельные периоды крайне острые формы.
Раскол христианства.
Христианство никогда не представляло собой единого течения. Распространяясь по многочисленным провинциям Римской империи, оно приспосабливалось к сложившимся социальным отношениям и местным традициям. Следствием децентрализации Римского государства было возникновение первых четырех автокефальных (самостоятельных) церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской. Вскоре от Антиохийской церкви отделилась Кипрская, а затем Грузинская православная церковь.
Но дело не ограничивалось только разделением христианских церквей. Некоторые из них отказывались признавать решения вселенских соборов и утвержденную ими догматику. В середине V в, армянское духовенство не согласилось с осуждением монофизитов Халкидонским собором и отказалось принять догмат боговоплощения. Христос признавался только богом, но не богочеловеком. Тем самым армянская церковь поставила себя в особое положение, приняв догмат, противоречащий догматике ортодоксального христианства. Обособление армянской церкви явилось следствием общего стремления освободиться от экономического и политического влияния Византии .
Крупным расколом христианства было появление двух основных направлений — православия и католицизма. Этот раскол назревал в течение нескольких столетий и был связан с особенностями развития феодальных отношений в восточных и западных частях Римской империи и конкурентной борьбой между ними. Последняя определила политику восточной и западной церкви. Между ними начиная с V в. разгорелась ожесточенная борьба за руководство в христианстве. Особенно обострились противоречия в период упадка Византии. Когда над Византией нависла угроза нашествия персов, римский папа Лев IX предъявил ей территориальные претензии. Получив отказ, он предал анафеме византийского патриарха Михаила Керуллария. В свою очередь церковный собор Византии обвинил папу в ереси.
В 1054 г. между восточной и западной христианской церковью произошел окончательный разрыв. Западная церковь стала называться римско-католической церковью, что означало римская всемирная церковь; восточная — греко-католической, православной, т. е. всемирной, верной принципам ортодоксального христианства.
Кризис старых духовных ценностей требовал какого-то социально-психологического замещения их. Искать замену в пределах греко-римского культурного круга было бесполезно, потому что его мыслители еще долго не могли преодолеть обаяния идей, созданных полисным миром, который формально продолжал существование еще в течение столетий. Правда, в более скромных социальных слоях, не затронутых учениями философов, отмечены и сообщества такого типа, где подготавливалась моральная атмосфера, в которой позднее могло расцвести христианское учение. Уже в I в. до н. э. в Малой Азии сложились общины митраистов (см. лекцию 18). В Греции еще ранее, со времен расцвета полиса, существовали и продолжали существовать в период империи общины орфиков. Учение их возводилось к древнему мифическому певцу и музыканту Орфею, якобы нисходившему в преисподнюю в тщетной попытке высвободить оттуда свою супругу Эвридику. Признавая весь пантеон греко-римских божеств, орфики переосмысляли мифы о них в этико-символическом духе: из яйца Хроноса («Времени») родился Эрос — божество любви и света, который и создал первичный мир, лишь видоизмененный Зевсом и олимпийскими богами. Орфики учили, что душа человека проходит круг перевоплощений, но он может быть сокращен «орфической» жизнью, которая предполагала презрение к плоти и аскетизм; выходя из круга перевоплощений, душа человека вступала в вечный мир блаженства и божественного бессмертия.
Учение орфиков, однако, тоже не могло ответить на болезненные вопросы эпохи — хотя бы потому, что не порывало с уже опостылевшими «полисными» культами и с культом императора, делая упор на самосовершенствование в пределах существующей системы ценностей. Еще важнее было то, что орфические общины были тайными, строго замкнутыми группами. Но трудно отрицать, что и орфизм подготавливал среди населения империи многие идеи будущего христианства — прежде всего идею неокончательности смерти, возможности бессмертия для каждого праведника и воздаяния человеку по делам его в загробном бытии.
На Ближнем Востоке дело обстояло по-иному. Здесь уже по крайней мере с VI в. до н. э. возникли эсхатологические течения — мистика абсолютного будущего, ожидания прихода спасителя мира для учреждения нового, окончательного и безупречно справедливого порядка на земле. Ожидание спасителя было свойственно многим направлениям зороастрийской религии, но особенно характерно было упование на будущего спасителя «помазанника» для течений, слагавшихся на почве ветхозаветной религии, видимо, не без влияния зороастризма. В связи с перипетиями эллинистической истории, с многократными переселениями этнических групп — и в том числе иудеев — во все концы эллинистического мира ветхозаветные идеи получали все более широкое распространение. Иудеи, принадлежащие к «диаспоре» (выселенцы из Палестины), занимались привлечением новообращенных в ортодоксальный иудаизм, но, кроме того, в разных местах образовывались, как мы уже видели («Расцвет древних обществ», ), различные более или менее обособленные группы и течения, такие, как терапевты в Египте, ессеи в Иудейской пустыне у Мертвого моря, сторонники Иоанна «Крестителя», а затем и многие другие. Для всех них были характерны не только эсхатологические чаяния вообще, но и ожидание избавления, которое будет принесено в «конечные времена» конкретным лицом. Для ортодоксальных иудеев это должен был быть непременно потомок древнего царя Давида, помазанный Богом в цари («помазанник» по-древнееврейски машиах , по-гречески мессия или христос ); ожидалось, что он восстановит конкретное государство, но не в его прежнем виде, а в виде идеального, утопически-справедливого царства, доступного только праведникам, выполнявшим боговдохновенный «Закон» Торы, или Пятикнижия, приписывавшегося Моисею. Вера в приход мессии утвердилась по крайней мере еще с VI в. до н. э. Часто считали, что перед пришествием мессии будет новое явление пророка Илии, который якобы не умер, а вознесся живым на небо и может вновь появиться на земле в «конечные времена». Другие религиозно-этические движения сходного происхождения сохраняли веру в будущее пришествие мессии, хотя рассматривали его более в нравственном аспекте. Как уже говорилось («Расцвет древних обществ», лекция 20), иудеи считали, что Яхве заключил со своим народом особый «завет» (договор, материальным признаком которого было обрезание: оно должно было отличать поклонников Яхве от всякого другого народа). Новые секты и религиозные движения стали выдвигать идею о Новом завете, т. е. новом договоре между богом и людьми, основанном на более высоких нравственных требованиях единого божества к личности человека. Представление о таких личных отношениях между богом и человеком не могло сложиться в хаотическом мифологическом мире греко-римской культуры — оно могло сложиться лишь на почве монотеизма, веры в одного бога, лицом к лицу с которым оказывается человек. Монотеизм же реально существовал в I в. до н. э. — I в. н. э. только в учениях, развившихся на библейской почве. Кроме того, именно здесь неизбежно было наиболее резкое столкновение с официальной идеологией Римской империи: монотеизм был абсолютно несовместим с идеологическим обоснованием империи — культом императора как одного из «божеств».
2. СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Генезис христианства принадлежит к проблемам, которые могут ставиться исторической наукой в двух различных планах — более общем и более узком. Возведение эсхатологизма в новое качество и одновременно его преодоление, приведшее к возникновению христианства, было обусловлено общественно-психологической ситуацией Римской империи. Систематически прослеживать эту обусловленность и означает решать в широком плане проблему возникновения христианства. Материал для решения проблемы в таком плане более чем обилен: по сути дела, это вся совокупность наличных данных о повседневной жизни, духовной тревоге, идейных исканиях жителей Римской империи в начале нашей эры.
Совсем другое дело — постановка проблемы генезиса христианства в узком плане, т. е. реконструирование фактической истории малозаметных событий в Палестине I в. н. э., послуживших началом собственно христианского движения. Как уже не раз отмечалось многими советскими историками, вопрос о фактической достоверности того или иного события или об историчности того или иного лица — это не мировоззренческий, а фактографический вопрос. В качестве такового он и должен решаться. Но при этом полезно напомнить, как Энгельс, сам разрабатывавший проблему происхождения христианства исключительно в широком плане, протестовал против попытки Бруно Бауэра вообще снять постановку этой проблемы в узком плане: «Разумеется, Бауэр, как и все, кто борется с закоренелыми предрассудками, во многом далеко хватил через край. Чтобы установить на основании также и литературных источников влияние Филона и особенно Сенеки на формирующееся христианство, а новозаветных писателей представить прямыми плагиаторами упомянутых философов, Бауэру пришлось отнести возникновение новой религии на полсотни лет позже, отбросить не согласующиеся с этим сообщения римских историков и вообще позволить себе большие вольности при изложении истории. По его мнению, христианство как таковое возникает только при императорах из династии Флавиев, а новозаветная литература — только при Адриане, Антонине и Марке Аврелии. Вследствие этого у Бауэра исчезает и всякая историческая почва для новозаветных сказаний о Иисусе и его учениках; эти сказания превращаются в легенды, в которых фазы внутреннего развития первых общин и духовная борьба внутри этих общин переносятся на более или менее вымышленные личности» .
Необходимо отметить, что вплоть до 60-х годов значительная часть советских исследователей, захваченная пылом борьбы с «закоренелыми предрассудками», шла скорее за Бауэром, чем за Энгельсом, утрируя даже передержки «хватившего через край» Бауэра. Так, например, если для Бауэра новозаветные авторы — «настоящие плагиаторы» более ранних писателей — Филона (ум. около 40 г. н. э.) и Сенеки (ум. в 65 г. н. э.), то для Р. Ю. Виппера это плагиаторы Плутарха (ум. после 119 г. н. э.), что гораздо более странно с точки зрения хронологии, да и в прочих отношениях.
С течением времени накопление нового материала (в частности, кумранские открытия, находки в Египте фрагментов евангелий, относящихся к началу II в. н. э., общее развитие научных теорий мифотворчества) создало предпосылки для более строгого отношения к фактам и евангельской традиции; это ощущается, в частности, в последних работах И. Д. Амусина, М. М. Кубланова, И. С. Свенцицкой, А. Ч. Козаржевского.
Ф. Энгельс, критиковавший тюбингенскую школу за то, что она сохраняет все евангельские рассказы, отбрасывая только чудеса, и Бруно Бауэра — за его гиперкритицизм, писал, что между этими границами лежит истина и что «новые находки, в особенности в Риме, на Востоке и прежде всего в Египте помогут в этом вопросе гораздо больше, чем какая угодно критика» . Открытия, сделанные в послевоенные годы, оправдывают эти слова Ф. Энгельса.
Для историка обобщающие схемы и принципиальные конструкции никогда не могут заменить конкретность фактов и персоналий. Постановка проблемы генезиса христианства в широком плане не отменяет постановку этой проблемы и в узком плане. Однако с источниками во втором случае дело обстоит куда менее благополучно, чем в первом.
Разумеется, особую ценность имели бы сообщения об Иисусе из Назарета и его первых последователях, исходящие от «сторонних» и постольку более или менее «незаинтересованных» свидетелей — римских хронистов первой половины и середины I в. н. э. К сожалению, вся актуальная историография ранней империи, предшествующая Тациту и Светонию, утрачена (за единственным исключением конспективного труда Веллея Патеркула, набросанного к тому же слишком рано — в 29 г.).
Упоминание христианства у Тацита вкраплено в рассказ о знаменитом пожаре Рима при Нероне в 64 г. н. э., подавшем повод к слухам о намеренном поджоге. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев». После этого историк описывает казни христиан, оформленные как зрелище. Нет никаких оснований считать это место подложным или хотя бы интерполированным. Другой вопрос, какую информацию оно содержит. По достоверным сведениям, имевшимся у Тацита, к 64 г. христианство существовало, дошло до Рима и было уже настолько известно столичному обывателю, что могло пригодиться официозной пропаганде в качестве политического козла отпущения. Все это само по себе важно. Однако дает ли это сообщение сведения о начале христианского движения? Тацит писал в 116—117 гг. В эти годы о том, что христианство зародилось в Иудее, что основателем его был некто «Христос», казненный римскими властями, и что при этой казни играл какую-то роль прокуратор Понтий Пилат, можно было услышать от первого встречного христианина (а ведь друг Тацита Плиний Младший лично допрашивал христиан в Вифинии). «Анналы» Тацита — гораздо более ценный источник для истории римской стадии христианства, чем для истории его палестинской стадии.
То же самое в еще большей степени относится к сообщению Светония об императоре Клавдии: «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом , он изгнал из Рима». Из-за этого «Хреста», о котором Светоний больше ничего не знает, при Клавдии происходили беспорядки в римской еврейской общине.
На этот раз мы узнаем, что, по-видимому, не только Нерону но еще его предшественнику Клавдию пришлось в какой-то мере считаться с фактом мессианского движения последователей Иисуса. Стоит вспомнить о рескрипте того же императора Клавдия от 41 г. к александрийцам, текст которого был обнаружен на папирусе, найденном в 1920 г. в Египте. Император в несколько темных выражениях запрещает александрийским иудеям приглашать к себе иудеев из Сирии и Египта, разносящих «как бы некий общий недуг всей вселенной».
Толкование этого рескрипта вызывает споры, нельзя быть вполне уверенным, что в нем идет речь именно о христианстве; но он, во всяком случае, говорит о распространении из Сирии и Египта учений, связанных с библейской традицией и опасных для империи. В этом смысле свидетельство рескрипта смыкается с сообщением Светония о распространении христианства при Клавдии; но все это, к сожалению, еще не может дать нам в руки сведения о самих палестинских истоках христианства.
Естественно обратиться к историку Палестины Иосифу Флавию (37 — около 100 г.). В его «Иудейских древностях» (XX, 199—201) сообщается под 62 г. об убиении Иакова, «брата Иисуса, прозванного Христом», и есть раздел о самом Иисусе (XVIII, 63—64); этот раздел сразу резко разочаровывает исследователя: в нем бросаются в глаза заявления о мессианском достоинстве и даже божественности Иисуса, которые никак не могут принадлежать верующему иудею, каким был Иосиф, но только верующему христианину, каким он ни в коем случае не был. Безусловно, раздел испорчен переделками и вставками (интерполяциями) христианских переписчиков; но правильно ли считать его в полном объеме одной большой интерполяцией, или можно попытаться вычленить его подлинное ядро, отбросив наслоения? Этот вопрос до недавнего времени был предметом острой, но довольно безрезультатной дискуссии, пока в 1971 г. семитолог Ш. Пинес не доказал при помощи строгого филологического анализа, что первоначальный подлинный текст сохранился в средние века в ближневосточном рукописном предании благодаря раннему переводу «Иудейских древностей» на сирийский язык с оригинала, еще не подвергнувшегося христианской переработке. Этот сирийский перевод сообщения Иосифа об Иисусе сберегла для науки цитата из него (по-арабски) во «Всемирной истории» («Китаб аль-унван») христианского историка X в. Агания с прямой ссылкой на Иосифа Флавия . Интересующее нас место читается так:
«...В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью; и многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть; однако те, кто стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он-де и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса...»
В отличие от переделанного христианским редактором греческого текста здесь нет ни сомнений в человеческой сущности Иисуса, ни упоминания о его чудесах, ни возложения ответственности за его смерть на иудейских старейшин (противоречащего общей тенденции сочинений Иосифа); что касается воскресения Иисуса и его мессианского достоинства, то они всецело оставлены на совести Иисусовых учеников. Это голос не враждебный, но чуждый христианству. Иначе говоря, отпадают все препятствия к тому, чтобы рассматривать весь раздел в таком виде как подлинный текст Иосифа Флавия (конечно, со скидкой на несущественные деформации, возникшие при последовательном переводе с греческого на сирийский и с сирийского на арабский).
Другое из двух главных сочинений Иосифа Флавия — «Иудейская война» — было написано в двух вариантах: по-гречески — с расчетом на римскую публику и по-арамейски — с расчетом на иудейскую публику. Сохранился только греческий вариант, в котором христианство ни разу не упомянуто, что само по себе довольно понятно: официозному историографу династии Флавиев, доказывающему грекоязычному читателю историческую правоту империи и политическую безобидность иудейства, не к чему было распространяться о мессианских движениях. Что касается древнего славянского перевода «Иудейской войны», возможно хотя бы отчасти восходящего к арамейскому подлиннику и доносящего колоритные подробности о политическом фоне выступления и гибели Иисуса, то проблема этого перевода является одной из самых интересных, но и самых спорных проблем источниковедения. Формулировать ее итоги еще не время.
Иносказательные упоминания об Иисусе и ранних палестинских христианах (минам — «еретиках», «отщепенцах») в Талмуде представляют собой довольно позднюю (II—V вв. н. э.) запись своеобразного «фольклора» раввинских школ за полтысячелетия. Устное предание имеет свои свойства: оно крайне легко искажает факты, но порой очень цепко удерживает образ. Анекдоты и слухи о начале христианства, записанные в Талмуде, не отличаются в этом отношении от всех других анекдотов и слухов. Сообщаемые в них данные не следует ни переоценивать, ни отвергать целиком.
Христианская литература первых десятилетий дошла главным образом в составе канонического сборника, носящего название «Новый завет»; это комплекс религиозных сочинений, выбранных церковью среди им подобных как наиболее адекватное выражение новой веры, прибавленных к Септуагинте и вместе с ней составляющих христианскую Библию. Отбор новозаветного канона в основном произошел во II в., но завершился только к концу IV в. В него входит 27 сочинений различных жанров: четыре «Евангелия» , примыкающие к ним «Деяния апостолов», 21 «послание» (поучения в эпистолярной форме), из которых 14 принадлежат или приписываются традицией апостолу Павлу, а остальные — апостолам Петру (два), Иоанну Богослову (три), Иакову и Иуде (по одному), и, наконец, «Откровение Иоанна Богослова», или «Апокалипсис» — фантастическая картина грядущего конца мира. Все эти сочинения сохранились на греческом языке — международном языке Восточного Средиземноморья, там, где традиция сообщает о семитическом (еврейском или арамейском) подлиннике, как в случае с «Евангелием от Матфея», этот подлинник утрачен.
Четыре «Евангелия» составлены в форме рассказа о жизни и проповеди Иисуса, о его смерти и воскресении. Наиболее краткое и, возможно, самое древнее «Евангелие от Марка» ничего не говорит ни о происхождении, ни о детстве и юности своего героя; рассказ начинается прямо с того, что аскет и пустынник Иоанн «Креститель» (не смешивать с Иоанном «Богословом», учеником Иисуса, которому приписывается авторство ряда новозаветных текстов) выступает с проповедью покаяния и крестит своих последователей в реке Иордан (т. е. подвергает их ритуальному омовению, укорененному в иудейских религиозных традициях), предсказывая при этом приход «более сильного», чем он сам; как бы в ответ на эти слова Иисус приходит из Галилеи к Иоанну и принимает крещение. В самый момент обряда Иисус (по другой интерпретации текста — Иоанн) имеет видение: над ним разверзаются небеса, Дух божий (упоминаемый в Ветхом завете, но ни там, ни в Новом завете еще не признаваемый одной из трех ипостасей Божества, как позже у христиан) спускается к нему в виде голубя, и глас с небес утверждает Иисуса в мессианско-царственном звании «Сына Божия». Подготовившись сорокадневным уединением в пустыне, Иисус возвращается в родную Галилею на севере Палестины и начинает свою проповедь с возвещения мессианского времени («исполнились времена», «приблизилось царство божие», «покайтесь!»). Описываются призвание им первых учеников (апостолов — греч. «посланцев ») из среды рыбаков Тивериадского озера, его странствия, преимущественно в Галилее, творимые им чудеса. Об учении Иисуса в этом Евангелии говорится мало. Постоянный мотив — столкновения с иудейскими ортодоксами из числа господствующих религиозных течений фарисеев и саддукеев (и отчасти с учениками Иоанна «Крестителя»), в связи с тем что Иисус, во-первых, проявляет непринужденность по отношению к запретам иудейской религиозной практики (например, нарушает предписание абсолютного бездействия в субботу), во-вторых, притязает на право прощать людям их грехи, принадлежащее-де только богу, и, в-третьих, поддерживает «оскверняющее» общение с отверженными грешниками. Далее рассказывается о чудесном видении: поднявшись с тремя избранными учениками на «высокую гору» (отождествленную позднейшей традицией с горой Табор, в другом произношении — Фавор), Иисус явился им «преображенным», в засиявших одеждах, и на их глазах беседовал с Моисеем и Илией — легендарными пророками древности. После этого приведены изречения Иисуса, осуждающие богатство и утверждающие самоотверженную готовность на добровольное страдание в качестве решающего критерия духовной жизни . Наконец, накануне главного иудейского праздника — пасхи — Иисус приближается к Иерусалиму, въезжает в этот город на случайно найденном осленке, принимает приветствие от народной толпы, обращающейся к нему с ритуальными возгласами как к царю-мессии, и властно изгоняет из помещений Иерусалимского храма менял и торговцев жертвенными животными. «Подосланные» люди задают ему опасный вопрос; допустимо ли платить налоги императору? (Если Иисус ответит отрицательно — он разоблачит себя как подстрекатель к сопротивлению, если он ответит утвердительно — он восстановит против себя свободолюбивых «ревнителей» веры.) Иисус просит подать ему римскую монету и спрашивает, чье изображение и чье имя на ней отчеканены. Этот вопрос уже содержит в себе ответ: «Возвращайте цезарево — цезарю, а божье — богу» . Вслед за тем Иисус предсказывает неудачу иудейской освободительной борьбы и разрушение Иерусалима; он отвергает также традиционное обозначение мессии как «сына Давидова», переводя таким образом понятие мессии из области политики в область религии. Все это не спасает его от смертельной опасности: старейшины решают предать его суду синедриона, чтобы затем выдать на казнь римским властям (синедрион был лишен права приговаривать к смерти). Иисус в кругу двенадцати ближайших учеников тайно справляет обряд пасхального ужина (так называемая Тайная Вечеря), во время которой предсказывает, что один из учеников предаст его, а затем подает ученикам хлеб и вино, называя их своим телом и своей кровью, а себя уподобляя жертвенному пасхальному ягненку (прообраз христианской евхаристии — «причастия»). Ночь он проводит с учениками на Масличной горе в предместье Иерусалима, «ужасается и тоскует», просит троих самых избранных апостолов бодрствовать вместе с ним и в смертельной тоске обращается к богу с молитвой: «Авва Отче! Все возможно для тебя; пронеси эту чашу мимо меня! Но пусть будет не так, как я хочу, но как ты хочешь». После этого приходит один из учеников, по имени Иуда Искариот, вместе с вооруженными приверженцами иудейских старейшин; он подходит к Иисусу и целует его — это знак, кого надо схватить. Ученики разбегаются, Иисус отведен на суд синедриона, где подтверждает свое притязание на мессианское достоинство, за что старейшины выносят ему (предварительный) смертный приговор. Ранним утром Иисуса ведут к римскому прокуратору Иудеи Понтию Пилату для подтверждения приговора. Пилат спрашивает Иисуса, считает ли тот себя царем иудеев, и получает утвердительный ответ. Однако Пилат явно сомневается в политической серьезности дела и не прочь спасти необычного узника. По обычаю к празднику пасхи можно было помиловать одного осужденного; Пилат предлагает Иисуса, но толпа требует помиловать вместо него некоего Варавву, «который во время мятежа совершил убийство» . Иисуса ждет участь бесправных — телесное наказание и затем распятие на кресте. Его ведут на место казни (Голгофу) и распинают между двумя разбойниками. Описываются его страдания на кресте в течение шести часов и последние слова: это цитата из библейского псалма («Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?»), приведенная не по-гречески, как остальной текст, и не по-древнееврейски, как в подлинном псалме, а на родном галилейско-арамейском наречии Иисуса: «элохи́, элохи́, ламма́ шебактани́? » Тело Иисуса было выдано одному знатному иудею и спешно похоронено в каменном саркофаге, в пещере, в присутствии двух последовательниц Иисуса. На следующий день была пасхальная суббота — день, когда по иудейским верованиям нельзя ничего делать и нельзя никуда ходить. Когда же по истечении субботы Мария Магдалина и еще две женщины («мироносицы») пришли, чтобы омыть и умастить благовониями тело Иисуса, саркофаг оказался пуст, а на его краю сидел «юноша, облеченный в белую одежду», который сказал, что Иисус из Назарета «восстал и его здесь нет» и что ученики увидят его в Галилее. Женщины в изумлении и страхе ушли. Дальнейший текст содержится не во всех рукописях, и многие исследователи считают его неподлинным. Кратко повествуется о явлениях Иисуса Марии Магдалине и «в другом образе» двум неназванным ученикам; оба раза видевшие не встретили к себе доверия. В конце изображается, как еще одно явление происходит перед всеми одиннадцатью апостолами, после чего они идут на всемирную проповедь новой веры. На этом кончается «Евангелие от Марка».
Другие евангелия прибавляют к рассказу новые черты. По-видимому, одним из главных препятствий к тому, чтобы иудеи признали в Иисусе мессию, было его скромное происхождение из семьи галилейского плотника. Поэтому «Евангелие от Матфея» и «Евангелие от Луки» предлагают списки предков Иисуса, возводящие его к царю Давиду и прародителю Аврааму. Плотник Иосиф оказывается обедневшим отпрыском царского рода. Далее подчеркивается, что рождение Иисуса по особому стечению обстоятельств произошло не в безвестном галилейском Назарете, но в «Давидовом» городе Вифлееме, с которым были связаны древние пророчества о мессии. Оба евангелия рассказывают, что Иисус был чудесно зачат и рожден девственной матерью; «обручник» (фиктивный супруг) девы Марии — Иосиф был только приемным отцом таинственного младенца, он усыновил его как потомок древней династии Давидидов. «Евангелие от Матфея» повествует об астрологах из Месопотамии («волхвах»), которые были приведены звездой на поклон новорожденному мессии, «Евангелие от Луки» — о вифлеемских пастухах, которых научил поклоняться младенцу явившийся им ангел. Жизнеописание Иисуса у обоих этих евангелистов в общем сходно с тем, которое дано у Марка, хотя порядок событий несколько иной, детализация более обстоятельна, чудесному отведено больше места.
Но главное отличие состоит в том, что в эти евангелия введено большое количество афоризмов и притч (др.-евр. машалим ), приписываемых Иисусу. Так называемая Нагорная проповедь особенно пространно дана в «Евангелии от Матфея» , она содержит этико-религиозную программу христианства.
На место древней этики любви к «братьям», к «своим» по крови поставлен универсалистский идеал любви ко всем людям, объемлющей друзей и врагов; на место заповеди возмездия — заповедь прощения; на место принципа деловой озабоченности — требование презирать все земные заботы, не думать о завтрашнем дне и ждать «конечных времен». В «Евангелии от Луки» особенно много притч, и среди них такая известная, как притча о блудном сыне, иллюстрирующая мысль об открытом грешнику прощении.
Что касается «Евангелия от Иоанна», то в нем жизнеописание Иисуса существенно отличается от того, которое предложено в первых трех евангелиях, настолько, что его трудно, даже невозможно согласовать с повествованием первых трех евангелий. Здесь упомянуты события совсем иные, действие происходит преимущественно в Иудее и специально в Иерусалиме, а не в Галилее. Именно «Евангелие от Иоанна», по существу, впервые подчеркивает божественность Иисуса. Этому евангелию предпослан богословский пролог, звучащий как гимн, в котором идет речь о «Логосе» (др.-греч. «слово», «мысль», «смысл») как втором лице бога, существовавшем до начала времен и воплотившемся в Иисусе. Этот пролог — начало христианской теологии .
Многозначительное название канонического христианского сборника «Новый завет», включающего кроме евангелий и другие части, обусловлено сложной эволюцией идей. Как уже упоминалось, в основе иудейства лежит представление о «союзе» или «договоре» («завете») между богом и человеком (или общиной людей), в силу которого человек принимает заповеди бога и творит на земле его волю, а бог охраняет человека и ведет его к спасению. Термин «Новый союз» («Новый завет») встречается в VI в. до н. э. у пророка Иеремии (гл. 31, ст. 31); затем, что особенно важно, он служил самоназванием кумранской общины ессеев (II в. до н. э.— I в. н. э.). Христианство жило верой в то, что новый союз бога с людьми осуществлен в результате примирительной миссии и жертвенной смерти Христа. В отличие от кумранской секты в обиходном языке христианства термин «Новый завет» стали прилагать не к самой общине, а к сумме канонических текстов, в которых видели новые заповеди, заменяющие «ветхий» Моисеев «Закон» (Тору). Слово «новый», вошедшее в обозначение самой чтимой книги христиан, как нельзя лучше передает эсхатологический историзм раннехристианской религиозности; члены христианских общин чаяли космического обновления и сами ощущали себя «новыми людьми», вступившими в «обновленную жизнь».
Каждое евангелие, входящее в Новый завет, представляет собой не только рассказ, но «весть», не только жизнеописание Иисуса, но прежде всего проповедь о Христе, Сыне Бога. Евангельские тексты прежде всего предназначались для культовых чтений-декламаций на общинных собраниях, для богослужения, их композиция определена логикой литургического (богослужебного) мышления, а словесная ткань — литургическим ритмом.
Наиболее характерно в этом отношении «Евангелие от Иоанна». Вообще миф о раннем христианстве без обрядов и таинств не соответствует исторической действительности. Внешняя примитивность и скудность обрядов молодой и гонимой церкви сочеталась с тем, что само слово евангельских текстов, тоже очень простое и необработанное, воспринималось по своей внутренней установке как ритуальное, богослужебное (литургическое) слово, словесное «действо» и «таинство». Такому слову отводилось особое место в жизни, с чем должен постоянно считаться источниковедческий анализ.
Первые три евангелия, которые ввиду общности материала принято в отличие от четвертого называть «синоптическими», не столь иитенсивно литургичны в каждой своей фразе, как «Евангелие от Иоанна», а «Евангелие от Луки» выявляет даже сознательную ориентацию на стандарты и нормы «мирской» эллинистической историографии; однако и они предполагают скорее заучивание наизусть, ритмическую, распевную рецитацию и замедленное вникание в отдельные единицы текста, чем обычное для нас читательское восприятие. Это роднит их с другими «священными» книгами Востока, например с Кораном (само арабское название которого выражает идею громкого чтения вслух), с «Ведами», с текстами буддийского канона.
Важная источниковедческая проблема — выяснение относительной и абсолютной хронологии евангельских текстов, а также их зависимости или независимости друг от друга. К началу XX в. была разработана схема, до сих пор служащая с известными модификациями отправным пунктом для многих исследователей: «Евангелие от Марка» и гипотетический, искусственно реконструируемый текст под кодовым обозначением Q (от нем. Quelle — «источник») рассматриваются как база, на которой построены «Евангелия» от Матфея и Луки, причем к Q восходят речения Иисуса, общие для Матфея и Луки , но не встречающиеся у Марка. Предполагается, что «Евангелие от Марка» и Q возникли до падения Иерусалима в 70 г., «Евангелия» от Матфея и от Луки — между 70—90 гг., «Евангелие от Иоанна» — между 90 и 120 г. (последняя датировка подкрепляется находкой в Египте папирусного фрагмента четвертого евангелия, который относится к первой трети II в.).
Вопрос о датировке новозаветных текстов и об их связи с палестинской стадией христианства будет, без сомнения, еще не раз пересматриваться в связи с новыми публикациями кумранских текстов и новыми археологическими открытиями.
3. ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ И ПРОБЛЕМА ЕГО ДОСТОВЕРНОСТИ
Поскольку наука, не связанная религиозным вероучением, не имеет никаких оснований априорно принимать или априорно отвергать евангельский рассказ в каждой его детали, перед ней встает проблема критики источника.
В поисках реальной основы для такой критики необходимо помнить, что тексты евангелий — отнюдь не плод вольного литературного или религиозно-философского творчества. Уже в самом процессе своего становления они были жестко привязаны к совершенно конкретной утилитарной задаче: служить закреплением и подсобным инструментом проповеди, которой они и были порождены.
Из этого вытекает практический вывод: целесообразно попытаться выделить в составе евангельского повествования такие моменты, которые по своим ассоциациям, реально доступным для людей той эпохи и так или иначе всплывающим в текстах, могли лишь помешать делу христианской пропаганды и скомпрометировать саму проповедь. Если это удастся сделать, очевидно, что совокупность указанных моментов даст тот минимум безусловно непридуманных фактов (достоверных уже своей невыгодностью), которые не связанная религиозными догмами история обязана принять. Разумеется, вовсе не каждый подлинный факт непременно должен быть неудобным для пропагандируемого учения, но зато каждое неудобное сообщение должно восходить к подлинному факту, ибо провозвестник христианского учения был не в таком положении, чтобы взваливать себе на шею бремя этих неудобств иначе, как под давлением истины.
Целесообразно как можно полней использовать все еще недостаточно оцененный способ выяснить, какие именно пункты евангельского повествования были неудобны. Для этого нужно установить, что вызывало желание задним числом «исправить». Возможность эта связана с рассмотрением евангелий на фоне апокрифов, апологетических толкований и тому подобной несколько более поздней литературы. Чтобы определить, чем являются канонические евангелия, полезно для начала понять, чем они не являются, а для этого нет лучшего пути, чем прочувствовать контраст между ними и апокрифами. В апокрифах (как позже и в житиях апостолов и святых) царит ничем не сдерживаемая стихия эллинистической ареталогии (жанра повествований о чудесах) и восточного мифа (а порой, как в рассказах «Фомы Израильтянина» о детстве Иисуса, и восточной сказки). Фантазия работает в них так же беспрепятственно — и порой с такой же странной убедительностью,— как в сновидениях: чего стоит рассказ «Деяний апостола Иоанна» о том, как Христос дорастает головой до неба, как великан, а после этого оборачивается карликом и больно щиплет поставленного в тупик Иоанна за подбородок, приговаривая с таинственным видом: «Иоанне, не будь неверующим, но верующим и не умствуй!» Тот же апокриф расписывает, как один из апостолов видит Христа в образе статного мужа, а другой апостол — одновременно в образе младенца. Даже в сдержанном «Евангелии от евреев» можно было прочитать, что Дух Святой за один волосок перенес Иисуса по воздуху на гору Фавор, а в «Евангелии от Петра», столь близком по времени и стилю к каноническим, крест сам шествует и говорит. Неверие оказывается в апокрифах незамедлительно посрамленным: рука дерзкой повивальной бабки, усомнившейся в девстве Марии, отсыхает; раб, ударивший на пиру апостола Фому, оказывается растерзанным еще до окончания этого пира; и даже мальчишка, сломавший запруду, которую соорудил маленький Иисус, поражен недугом. Извечная человеческая мечта о компенсации унижений исполняется в апокрифах, точь-в-точь как в сновидениях.
Читая апокрифы, мы видим, какими были бы канонические евангелия, если бы евангелист рассказывал события так, как хотелось ему самому, его слушателям и его читателям. Вот один пример. В «Евангелии от Марка» мы читаем поразительное свидетельство о том, что в Назарете, где Иисуса встречали с недоверием, как слишком привычного земляка, он «не мог совершить никакого чуда... и дивился неверию их» (гл. 6, с. 5). Одного этого достаточно, чтобы высоко оценить совестливость рассказчика и понять, что он здесь, во всяком случае, не мифограф. Перед нами вовсе не какое-то особо тактичное и сдержанное применение установок жанра ареталогии, а некая противоположность этим установкам: получается, что, хотя чудотворство Иисуса реально для верующих, именно там, где оно было бы нужно, чтобы по всем правилам посрамить неверующих, заткнуть им рты, принудить к вере эффектным, показательным чудом, его как раз и нет, оно куда-то пропадает.
Конечно, дело совсем не в том, что евангелические рассказы сколько-нибудь правдоподобнее апокрифических. Элемент чуда играет в канонических евангелиях очень важную роль: Иисус описывается в них как чудесно родившийся, чудесно преображавшийся, чудесно исцелявший и чудесно воскресший. Впрочем, история рождения Христа, присутствующая только у Матфея и Луки, имеет свой особый колорит, отнюдь не характеризующий евангельское повествование в целом . Без этого элемента евангелие в принципе могло обойтись, как это видно на примере двух других евангелистов; напротив, оно не могло обойтись без чудесных исцелений и чуда воскресения. Но надо различать чудеса сказочно-мифологического характера от превращения молвою определенных совершившихся событий в чудеса. Нет никакого сомнения в том, что Иисус из Назарета жил в народной памяти как чудотворец. Истории известен ряд хорошо засвидетельствованных случаев, когда люди, в исторической реальности которых нет ни малейших сомнений, с полной искренностью и серьезностью считали себя и считались другими за чудотворцев, за сердцеведов, читающих мысли, и т. п. (вспомним хотя бы французскую народную героиню Жанну д‘Арк). Разумеется, относясь к Иисусу как к «чудотворцу», евангелисты могут время от времени говорить условным языком установившихся жанров, и соответственные случаи давно отмечены. Но когда стоит вопрос о своеобычности евангелий и достоверности евангельского рассказа, важно не то, какие черты ареталогии есть в евангелиях, а то, каких черт этого жанра там решительно нет. И в этом смысле одна фраза «Евангелия от Марка» о том, как чудотворец «не смог» совершить чуда перед буднично настроенными земляками — не то что не пожелал, а именно не смог,— важнее многих сверхъестественных эпизодов, ибо она ощутимо выявляет границу благочестивой стилизации, предел, положенный ей реальностью.
Авторы всех четырех евангелий, как и вообще их единоверцы, твердо убеждены в телесном воскресении Иисуса после смерти; они могли бы сказать на языке Павловых посланий: «Если Христос не воскрес, вера наша тщетна» («I Послание к коринфянам», гл. 15, ст. 14). Однако это характеризует именно веру евангелистов, но отнюдь не их рассказ в его собственно историческом аспекте. Для характеристики последнего существенно отметить, что ни в одном из четырех евангелий само по себо «событие» воскресения не описано (в отличие от апокрифов Петра и Никодима, где живописуется, как ангелы выводят Христа из гроба, причем головы ангелов доходят до неба, а голова Христа превышает небесный свод). Евангельский рассказ сначала фиксирует только пустой гроб, позже — и явление Христа ученикам, причем для веры это означает воскресение, для неверия — нет (из самого евангельского рассказа мы узнаем, что пустой гроб был тут же истолкован официальными инстанциями Иерусалима как инсценировка — ученики-де выкрали тело; что касается «явлений» и «видений», то они в древние времена нередко бывали засвидетельствованы среди определенных, возбужденных какими-либо реальными событиями групп населения). Как проповедники, евангелисты возвещают свою веру и ручаются за нее; но как рассказчики в собственном смысле слова, они и здесь поступают, как и везде,— не дают воли своей фантазии. Даже в рассказе о воскресении мы имеем дело не с мифологическим эпосом: триумф Иисуса над враждебными силами остается явным только для поверивших, но лишен доказательности и показательности, лишен наглядности.
На фоне общей картины полного внешнего провала дела Иисуса, закончившегося его осуждением законными властями как иудейской общины, так и Римского государства, позорным унижением и смертью, можно отметить еще ряд деталей, для нашего восприятия менее броских, но тогда достаточно важных; сочинителям мифов выдумывать их было бы по меньшей мере неразумно. Таково, во-первых, происхождение Иисуса из Галилеи. С точки зрения иудейской богословской мудрости «Галилея языческая» была населена не слишком высоконравственными и даже не очень-то умными людьми (гелилаа шоте — «бестолковый, галилеянин», говорится в Талмуде.) Галилейская Тивернада, в окрестностях которой происходят евангельские события,— это новостройка Ирода Антипы, названная в честь царствующего императора Тиберия и поначалу населенная преимущественно язычниками. Приозерный городок Капернаум, избранный Иисусом для первых мессианских выступлений, ни разу не упоминается в Ветхом завете и лишь однажды случайно назван в автобиографии Иосифа Флавия. А Назарет, родина Иисуса, вообще нигде не упомянут — ни в библейских текстах, ни у Иосифа, ни в талмудической литературе (это привело к тому, что некоторые ученые вообще считали Назарет выдумкой евангелистов, основанной на ложной этимологии прозвища «назорей», которое означает человека, принявшего на себя определенные ритуально-аскетические запреты; однако наукой теперь доказано существование Назарета уже в I в. до н. э.— I в. н. э.).
Действительно ли Иисус по особому стечению обстоятельств родился в легендарном Вифлееме, городе мессианских пророчеств, связанном с памятью царя Давида, наука знать не может, да это и не предствляет для нее интереса. Но не приходится сомневаться, что его детство и юность прошли в безвестном галилейском городке, просто потому, что измышление такой подробности практически невозможно, ибо противоречит интересам повествователей, и это важно для историка, поскольку дает возможность конкретизировать представления об этнической и социальной среде, из которой вышел Иисус.
Признание историчности Иисуса не имеет отношения к вопросу о бытии божьем, к атеизму, зато оно позволяет ввести частные обстоятельства возникновения важного фактора человеческой истории, каким явилось христианство, в конкретную рамку социальных условий определенного места и времени.
Приведенные нами выше аргументы убеждают не всех историков-марксистов. Однако, с нашей точки зрения, нет серьезных оснований сомневаться в том, что в первой половине I в. н. э. в Палестине, преимущественно в Галилее, действовал странствующий «учитель» по имени Иисус (Иешу́а) , который имел в своем образе жизни и общественном статусе много общего с раввинами своей эпохи, но также и с аскетами ессейского типа, хотя сам не входил ни в круг раввинов, ни в какой-либо сектантско-аскетический «орден» вроде кумранской общины;
что среда, из которой он вышел и которая первой приняла его проповедь,— это галилейские бедняки, подпадавшие наряду с общим социально-экономическим гнетом Рима и собственных богачей еще и духовному давлению из Иерусалима и как раз в I в. н. э. давшие множество свободолюбцев и бунтарей, например из секты зелотов;
что он в начале своей деятельности пришел к Иоанну «Крестителю» и дал совершить над собой главный обряд «крестительской» общины, тем самым продемонстрировав принципиальную солидарность с ее эсхатологическими чаяниями и нравственными принципами;
что после этого он основал собственную общину и объявил себя (или дал себя объявить) носителем и провозвестником наступающего мессианского времени ;
что его проповедь, направленная прежде всего неимущим и встречающая наибольший отклик среди них, принципиально обращалась ко всем категориям палестинского общества, допуская к нему в отличие от фарисейской и ессейской проповеди также и «нечистых», религиозно отверженных лиц, почему его последователи и смогли обратить проповедь к неиудеям и превратить локальное галилейское движение в мировую религию Средиземноморья;
наконец, что он был казнен римскими властями в результате сговора между ними и иерусалимской верхушкой, так что политическому осуждению Иисуса со стороны римлян предшествовало его религиозное осуждение со стороны санхедрина (синедриона).
Так обстоит дело с наличным преданием о событиях до казни Иисуса. Проповедь Иисуса стала зерном учения, развивавшегося далее уже на греко-римской почве (см. подробно в лекции 18).
Причины возникновения новой религии - христианства.
Рим, завоевав множество народов, установил такой гнет над ними, какого люди не знали прежде. Но особенно тяжело было евреям, которые населяли римскую провинцию - Сирию и Палестину. Частью этой провинции являлось бывшее государство евреев Иудея. Все средства борьбы за освобождение были уже испробованы, но не дали ощутимых результатов. Однако оставалось последнее: надежда на Бога Яхве. Евреи верили, что он не оставит их и освободит от римского угнетения.
Иисус Христос и его учение.
Евреи полагали, что Иисус Христос послан Богом именно к ним, а не к другим народам, потому что большинство евреев не знали многобожия, а признавали одного Бога Яхве. Еврейская религия, в отличие от религии греков, римлян, египтян и других народов, не имела множества созданных богов. Вот почему в еврейской среде, первоначально в Палестине, а вскоре и по всему Средиземноморью распространились слухи о рождении Иисуса Христа. Вера в Христа, а позже и в его учение, получила название - христианство, а тех, кто поддерживал эту веру, называли христианами.
С рождения Иисуса Христа началась новая историческая «эра» - наша эра. Мы и сейчас считаем годы до нашей эры или нашей эры, а в старых книгах встречаем до или после Рождества Христова (P. X.). О том, что Иисус Христос является исторической личностью, свидетельствует «Библия» - священная книга христиан и евреев, а также многочисленные источники, достоверность которых признана современной наукой.
Иисус учил, что усовершенствовать себя духовно можно только через крещение. Этот первый шаг поможет облегчить души и сердца и даст возможность понять всю несправедливость земной жизни. Люди тогда смогут не только положительно относиться к своим врагам, но и полюбить их, простить обиды, не будут отвечать злом на зло, смогут презирать богатство. Таким образом, только через веру в Иисуса Христа и духовную любовь к Богу люди смогут избавиться от грехов, всех бед и несчастий.
3. Христианские заповеди. Моральному и духовному очищению человека способствуют христианские заповеди - законы, которые были даны Богом евреям через пророка Моисея. Таких заповедей десять, три из них учат, как чтить Бога, все же последующие - как нужно относиться к людям: чтить родителей, не убивать, не красть, быть справедливым, быть верным мужу и жене, не врать, не завидовать.
Так христианство, не призывая к борьбе, разрешало все проблемы моральным и духовным очищением человека. В реальной жизни любой открытый протест против тяжелых условий существования жестоко подавлялся.
Организация христианской церкви.
С самого начала христианство провозгласило равенство всех перед Богом независимо от положения. Христиане были организованы в общины, в которых все верующие владели одинаковыми правами и пользовались общим имуществом. Дух Христа господствовал над всей общиной.
Христиане признавали только одного Бога и выступали против жертвоприношений римским языческим богам. За это христиан преследовали: их приговаривали к смертной казни, бросали хищникам, сжигали живыми.
Христианство - государственная религия империи.
Время шло. Постепенно идеи христианства о спасении человека от всех несчастий, о вечной жизни его души притягивали все большее количество людей. Идеи христианского терпения и смирения, непротивления злу воспринимали не только бедняки, но и люди средних и даже богатых слоев населения.
В 325 г. при императоре Константине христианство было признано государственной религией Римской империи. Новая религия должна была способствовать укреплению императорской власти и самой империи.
Тема: Возникновение христианства.
Идея: Возникновение христианства как показатель степени развития человече-
ского общества.
Факты:
Положение евреев в Сирии и Палестине в 1 в.н.э.
Иисус Христос и его учение.
Христианские заповеди.
Превращение христианства в государственную религию
Неглавные факты:
Монотеизм новой религии.
Начало новой эры.
Основные обряды христианства.
Появление церкви как общественного института на рубеже 1-2вв.н.э
Священные писания христианства
Известные понятия : Библия,Cпаситель, евреи, религия.
Новые понятия: Евангелие, Иудея, Мессия, Яхва, Христианство.
Диагностика степени усвоения понятия -ХРИСТИАНСТВО- (Мартинович).
I. Уровень
1. Дать определение понятию –Христианство-
2. Продолжить определение понятия: Христианство- это учение…,а позже государственная….
3. Из предложенных ниже определений выберете то, которое подходит к понятию христианство.
Х-это закон, который был дан Богом евреям.
Х-это вера в Христа и его учение.
Х-это организация людей, одетых в одинаковую одежду.
Х-это языческая верование.
II. Уровень
Назвать причины и предпосылки принятия христианства.(опора на пред. Схему №1
Используя карту показать регион и возникновения христианства. Перенести на контурную карту.
III. Уровень
Проследить состояние христианства в современном мире.
Проанализировать социальные, экономические, культурные последствия принятия христианства для всего человечества (в форме таблицы).
Провести мини социологический. опрос. Ребята обращаются к своим одноклассникам с анкетами. (анкета содержит вопросы. Примерные: Христианство и я, я христианин и поэтому, я придерживаюсь другой религии и…). Вопросы можно составлять вместе с учителем, а работать в группе.
Объективные исторические связи.
Возникновение христианства
Причина – тяжелейшее положение еврейского населения в Римской империи.
Следствие- создание новой, построенной на сострадании и терпимости религии.
Пространственные - разрастание Римской империи в Средиземноморье.Þ вхождение в её состав многих народов со своими религиозными представлениями Þсимбиоз культур.
Временные - нравственный упадок Римской империи в 20-х г 4 векаÞпоиск новых духовных ценностей у ущемлённых народовÞ распространение, принятие этой религии сами римлянами.
Выводы и обобщение.
1. Возникновение христианства было объективно обусловленным явлением.
2. Каждый народ имеет свои религиозные и мировоззренческие ценности и особенности.
3. Только та религия станет государственной, которая сможет отразит в себе дух времени, его требования.
Общий вывод: Степень развития религиозных представлений отражает степень развития общества вообще.
Схематизация.
Что такое христианство?
| ХРИСТИАНСТВО |
|
 |
||
 |
||
 |
||
Развитие церкви как общественного института.
 |
||||||
|
Причины возникновения христианства.
Результат принятия христианства.
Общие черты мировых религий

Христианство и Язычество
Литература.
- « Христианство» Я познаю мир. Изд. АСТ, Артель, 2005г(Полянская И.Н)
Детская библия.(любое издание)
История средних веков Ч 2. Риер Я.Г Могилёв…..2000г.
Хрестоматия по истории древнего мира
Учебная тетрадь для учеников 5 класса
История Византии ч 1 (для учителя)
Документальный фильм – Падение Византии
Донина А.У. У истоков христианствая. (1979)
Ивонин Ю.Е, Казаков М.М Очерки христианской церкви. Смоленск 1999
История инквизиции. М 19994 Т1
Федосик В.А Христианская церковь в Римской империи 3 нач 4 вв Мн 1992
История Древнего Рима. В.И. Кузищин. И.А. Гвоздева
Ученик 5 класса должен уметь:
Хронологические умения
Синхронизировать основные исторические события в развитии зарождения новой христианской цивилизации(опираться на табл.ревра.Христианства в государ.религию)
Делать различия в истории между зарождениям, развитием, становлением христианства (на основе таблицы)
Картографические умения
Показывать на карте Древнего мира необходимые регионы, страны.
Уметь при помощи карты описать географические условия и попытаться объяснить их влияние на возникновения христианства.
Источеский анализ.
Ученик должен выделять основные и второстепенные причины становления христианства как государственной религии.(на осн. Парагр)
Найти общие черты между язычеством и христианством, а так же их отличия. Составить таблицу на основе сравнительной таблицы.
Устная и письменная речь
Уметь правильно представлять своё мнение, выводы, суждения.
Делать сообщения, выделять самое главное.
ХРИСТИАНСТВО КАК ОСНОВА
СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ .
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ. Основой всей европейской средневековой духовной культуры была единая, универсальная, религиозная идеология – христианство . Оно было путеводной звездой и в исканиях философов, и в творчестве литераторов, художников и скульпторов, и в повседневной жизни людей. Оно определяло миропонимание как верхов общества, так и "простецов", "простых людей".
Известно, что христианство, как впрочем, и любая иная религиозная доктрина исходит из представления о постоянстве и неизменности мира, в котором человек – существо временное, подчиненное, бессильное что-либо изменить. В принципе, и современная наука признает, что мир, в котором мы живем, есть объективная реальность, существующая по снезависимым от воли людей. Человечество должно учитывать эти законы, подстраиваться под них. Но научное понимание мира предполагает изучение этих законов и их применение для обновления, улучшения условий и стандартов жизни. Наука исходит из признания принципиальной познаваемости мира.
Религиозные же воззрения, возникшие в донаучную эпоху, когда знания об окружающем пространстве еще были крайне ограничены и примитивны. Поэтому мир воспринимался как непонятная, непознаваемая, раз и навсегда данная реальность. Поскольку же представления и даже фантазии до- и раннеисторического человека не выходили за рамки его жизненного опыта, внешний мир воспринимался как вместилище хотя и сверхъестественных, но человекоподобных существ, которые этим миром управляют своей сверхъестественной волей. Так появились боги. На определенном этапе развития человеческого общества возникло понимание всеобщности и взаимосвязанности всех мировых процессов, и появился единый Бог – по сути, персонифицированная мировая закономерность. Так возникли иудаизм , а из него – христианство и генетически связанный с ними ислам .
Особенностью первобытного, древнего и средневекового миропонимания было представление о статичности, неизменности жизни. Ибо примитивный ручной труд совершенствовался крайне медленно, практически незаметно для целых поколений. Аграрное хозяйство – основа тогдашней жизни – вообще консервативно по своей природе. Обмен был ограниченным, деньги вкладывать было не во что, запасы или копили, или проедали. Такая жизнь отразилась и в религиозных представлениях о неизменности всего сущего.
Конечно, законы материального мира действительно постоянны. Но развитие производства, которое началось уже в средневековой Западной Европе и существенно ускорилось в новое время, с началом промышленного переворота, породило идею прогресса как блага, улучшавшего, облегчавшего жизнь людей. Большинство современных людей с этой идеей свыклось и воспринимает ее как должное (завтра - лучше, чем вчера, а если это не так, то надо что-то менять в обществе, чтобы было так ).
Религия же закрепила доиндустриальный подход. Мир – постоянен, стабилен, стремление его изменять – нарушение Божье воли, вмешательство в Его деяние, то есть – грех. Отсюда – склонность традиционного человека к подчинению, пассивности: "На все – воля Божья".
 Последний вечер вместе со своими учениками.
Последний вечер вместе со своими учениками.
 Явление Христа перед учениками.
Явление Христа перед учениками.

Распятие Христа. Гора Голгофа.
Тематическая карта урока истории
Тема: Возникновение христианства.
Тип : Урок изучения нового материала.
Идея: Возникновение христианства как показатель степени развития человеческого общества.
Дети должны знать о политическом и экономическом развитии Римской империи,основные народы, которые входили в её состав, должны знать основные понятия: спаситель, Библия, Евангелия, Мессия, христианство, Иудея, Яхва,христианские заповеди, религия.
| Этап урока |
Деятельность учителя |
Деятельность учеников |
| Целепологания |
Называет тему урока, кратко информирует о месте религии в Древнем мире, организует совместную целепологанию при помощи серии вопросов. Записывает на доске ответы ребят в столбик и т.о. получает план и формирует цель урока |
Фиксируют тему в тетрадь, слушают сообщение, определяют цели урока, отвечая на вопросы: 1.Чтобы понять почему возникло христианство нам необходимо определить…?(причины), 2.Важно ли знать место возникновения христианства? (Сирия, Палестина) 3.Чтобы узнать причины нам необходимо знать основные …христианства? (черты) 4 Важно ли событие в истории? т.е. определить…(результаты) |
Ученик должен уметь : формировать причины возникновения христианства, становления её и превращения в государственную религию; делать выводы по сравнительной таблицы о преимуществах христианства перед языческими верованиями, самостоятельно делать выводы о результатах принятия христианства, показывать на карте места расселения еврейского народа и границы самой Римской империи, определять важнейшие преимущества принятия христианства как государственной религии в сильнейшем государстве того времени.
| Восп-дение ориентационной основы |
Организует работу класса по следующим вопросам |
Показать территорию Древнего Рима, назвать и показать столицу государства, показать Сирию и Палестину, Египет. Вспоминают такие понятия как: Библия Спаситель, евреи, религия. |
| Изучение материала |
Учитель вывешивает на доске 5 картинок с изображениями: карты Сирии и Палестины, на второй Иисус со своими учениками, на третьей – преступники распятые на крестах, на четвёртой – христианские символы(рыба), на пятой- Константин объявляет о государственном статусе религии. Между рисунками остаются промежутки. Именно сюда ребята будут вклеивать свои таблички. Учитель организует деятельность групп. Учитель предлагает небольшой сюжетный рассказ(предоставлен внизу. Предоставляет дополнительную литературу. Корректирует д-ть школьников, выписывает сложные слова, словосочетания например новая религия т.е христианство, возникшие вопросы с понятиями, датами, историческими личностями фиксирует на доске. Организует выступление ораторов и работу малых групп |
Дети получают карточки, приговоров ливают ручки и слушают учителя.Делятся на группы(5), каждая будет отвечать за свой период в истории становления христианства. Дети обсуждают рассказ, используют предоставленную им специальную литературу по их теме(первая группа получает задание на описание местности возникновения х-ва т.е1.Описать географические условия Сирии, Палестины,Египта.2.Определить каким образом они повлияли на население этого региона.3Расмотреть всю территорию Римской империи и определить место в ней Сирии и Палестины, поэтому получают атласы и карты, отрывок из параграфа №19; вторая- задание по главным идеям х-ва,12 заповедей т.е необходимо составить таблицу 12 зовеведей христианства, шаблон дан выше(таб. «10 глав.заповедей» , поэтому получают выдержки из детской Библии; третья группа задание о причинах смерти Иисуса т.е 1.Кто,почему,где и как убил Иисуса.2.Кто предал Христа и за сколько.3.Почему Иисус, зная о своей смерти, не избежал её.,поэтому получают выдержки из книг под ред. Кузищена. четвёртая группа-задание, касающиеся распространения христианства, их ущемление и репрессии т.е1. Какие слои общества проповедовали христианства? 2 Почему правительство им запрещало это делать?3 Кто и как распространял новое учение? , получают отрывки из хрестоматии; пятая группа – задание о становлении х-ва государственной религией т.е. 1. Почему религия бедных стала государственной? 2 Кто,когда и почему провозгласил это, дети получают текст параграфа и работают с ним Приклеивают свои карточки под картинки их темы. Каждая группа выдвигает своего представителя и они возле доски рассказывают свой кусочек. Остальные дети слушают и заполняют структурно-логическую цепь « Основные этапы превращения христианства в государственную религию». |
| Обобщение изученного материала Оценка результатов работы Рефлексия |
Сначала учитель организовывает фронтальную беседу для обобщения новой темы. Смотрит в конспекты, чтобы убедиться, как дети выполнили цепь. Организует оценку работы групп и представителей. Выставляет оценки. Организует проведение и заполнение рефлексии (мишень) |
1.Сравните язычество и христианство. 2.Попытайтесь ответить на вопрос: Почему, по вашему мнению,был столь непростым путь превращения христианства в государственную религию. Если найдётся ученик, который желает выступить со свое цепочкой событий, ему предоставляется время. Высказываются по отношению рабочей группы. Дети вписывают в каждый круг, в зависимости от цвета, своё имя. Жёлтый- я не успевал за работай в группе. Красный – узнал очень много интересного. Зелёный- просто всё класс, хочу ещё. |
| Сюжетный рассказ учителя Далёкие земли, которые так далеко находились от Рима, что жители этой страны даже не знали в лицо римского императора, были заселены народом, который не был похож на другие, обладающий собственной культурой, языком. Римляне подвергали этот народ всяческому унижению, люди же ждали избавления. Чтобы освободить людей от их заблуждений, главной причиной, толкающей их к преступлениям и злодеяниям, Господь послал на землю своего сына Иисуса. Проповеди Иисуса имели огромную популярность, осуждалась богатство, проповедовалась забота о бедных и сиротах, непротивление злу. Однако в 30гнэ погиб на кресте по приговору римского прокуратором Понтием Пилатом. Однако его ученики разошлись по восточным провинциям Империи стали и проповедовать новое учение в городах Сирии, Египта, Малой Азии, Балканской Греции. Особенно активно проповедовали апостолы Пётр, Павел, Иоанн. Через пророка Моисея Бог послал людям христианские заповеди. Таких заповедей десять, три из них учат, как чтить Бога, все же последующие – как нужно относиться к людям. Постепенно новое ученее, завоевывало все новые и новые слои населения, а в 325г при императоре Константине христианство было признано государственной религией Римской империи. Контрольная работа . Тема: Возникновение христианства . Цель: Проверить уровень усвоенных знаний по пройденному материалу. I. Уровень. 1. Выберите правильный вариант: a) В каком году родился Иисус Христос. 4г.д.н.э., 3г.д.н.э., 2г.д.н.э., 5г.д.н.э. b) Для язычества характерно: Многобожье, монотеизм, отсутствие веры в бога. c) Назовите три апостола, которые первые начали проповедовать новое учение. Пётр-Павел-Иоанн; Пётр-Моисей-Павел; Моисей-Иоанн-Андрей; Матфей- Моисей- Иоанн. 2. Исключите неправильное. a. В каком был убит Иисус. 30г.н.э; 29г.н.э; 33г.н.э; 31г.н.э. b. В каком году христианство стало госу-ой религией. 325г.н.э; 320г.н.э; 330г.н.э; 315г.н.э. 3. Соотнесите религию и главных богов. Христианство Буддизм Мусульманство Будда, Христос, Аллах Соотнесите богов с главными книгами их религий. Коран, Библия, Веды. 4. Из предложенных определений выберите правильное. Христианство – вера в Христа Вера в Христа, а позднее и в его учение Религия, которую проповедуют евреи Название главного храма в Риме. Крещение Обряд, после которого человек становится христианином Название блюда на празднике христианина Название документа Элемент одежды у священников. Историческая эра Эра до рождения Иисуса Период времени, который завершился в 1вн.э 5. По перечисленным критериям найдите понятие, которому оно соответствует. Вера в одного Бога, милосердие, вера в загробную жизнь, фатализм. Христианство Язычество 6. Исключите имя исторической персоны, которая не связана с возникновением и развитием христианства. Иисус Христос, Константин, Понтий Пилот, Нерон, апостол Пётр, Фукидид. II. Уровень. 1. Заполните таблицу « Причины возникновения Христианства" 2. Поразмышляйте, какая из этих причин является наиболее важной (на ваш взгляд) 3. Проанализируйте письменное свидетельство о Иисусе Христе Иосифа Флавия. 4. Сравните предыдущей документ с документом Корнелия Тацита. III. Уровень. Выберите из ниже предложенных тему и напишите сочинение (не более 15 предложений) Почему Иисус, зная о неминуемой гибели, не попытался её избежать. Христианство – религия добра 12 заповедей Христианства. |
||
См.: Риер Я.Г. История средневековых цивилизаций. Часть I, тема 12.
Особняком стоит буддизм – многими вообще не относимый к религиям (из-за дискуссии о божественной сущности Будды).